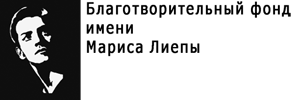Алексей Вайткун составил очередное «Личное дело». На этот раз гостем журналиста стал известный российский хореограф Андрис Лиепа. В интервью, которое мы и предлагаем вашему вниманию, Андрис подробно и интересно рассказал о своей творческой семье, об отношении в ней к профессии, о сложных и противоречивых отношениях Мариса Лиепы и художественного руководителя Большого театра СССР Юрия Григоровича и многом другом.
Мы рады вас приветствовать, Андрис! Рады, что можем поговорить о балете именно с вами. Скажите, в какой момент вы почувствовали и осознали, что балет — это великое искусство?
На балетах Мариса Лиепы, моего отца, когда я приходил в Большой театр и смотрел, как он выступает. И, наверное, один из первых спектаклей, который я помню, это «Легенда о любви» в постановке Юрия Григоровича. Это был совершенно фантастический спектакль, который до сих пор идет на сцене Мариинского театра. Это совершенно уникальное явление в области мирового балета и в частности — советского. Было чем-то из ряда вон выходящим, когда артисты вышли на сцену в трико и купальниках, что тогда было вообще не принято.
Это был настолько эстетически красивый восточный эротизм, соответствующий этой легенде. И это было сделано так тонко и фантастично, что потом, когда я пришел домой, то сразу начал лепить — в детстве я очень много лепил. И я слепил отца — в короне с двумя перьями, которая мне тоже очень понравилась.
Сколько вам тогда было лет?
Пять. До этого меня водили на «Щелкунчика», однако в моей памяти этой информации нет. Еще мне рассказывали, что когда я увидел отца по телевизору в «Лебедином озере», то пошел искать молоточек, чтобы разбить экран и залезть к папе. Это воспоминания моих близких, но сам я этого не помню.
Как происходило ваше «втягивание» в хорошем смысле этого слова, в балет? Как вы в него погружались? Помогала балетная атмосфера в доме?
Безусловно, атмосфера действовала, но, конечно же, спектакли способствовали этому в большей степени. Например, впечатлил «Спартак» — легионеры, рабы, сражающиеся за свою свободу, и все это действо сопровождалось потрясающей музыкой… По-моему, это зрелище никого не оставит равнодушным.
А потом уже был «Иван Грозный», а также спектакли классического репертуара, которые очень мне нравились. Я очень благодарен отцу за то, что он приучил нас к балету.
Сегодня очень сложно приобщить детей к этому виду искусства. К сожалению, у них такое огромное количество искушений, в основном технологического плана: включаешь компьютерную игру — и на два часа можно забыть о том, что у тебя есть ребенок. А во времена моего детства родителям надо было подумать, чем же занять малыша и что сделать, чтобы в будущем ему хотелось посвятить себя балету.
Как занимали вас ваши родители?
Помимо того, что мы смотрели спектакль, во время антракта мы заходили в гримерные, мастерские. Также заходили мы и в пошивочный цех. Даже подарки получали от работников!
То есть вас увлекали атмосферой?
Не только. Понимаете, ребенка необходимо увлечь, добавив некий элемент игры, а не просто привести его в театр, что-то показать, рассказать, а в антракте купить пирожное. Этого мало. Нас водили и на репетиции, кстати, не только на спектакли отца. Моя мама — драматическая актриса, и мы часто бывали на репетициях постановок, в которых она принимала участие.
А тогда вы уже понимали то, что ваш отец — звезда?
Мы видели, что то, что он делал, зрители очень любили. Кстати, что касается звезд того времени, то хочется отметить, что тогда это было чем-то из ряда вон выходящим. Тогда не было таких популярных эстрадных артистов, а в основном звездами считали все-таки оперных исполнителей — Лемешева, Козловского, Атлантова. В опере пели Тамара Милашкина, Елена Образцова…
Сегодня же можно взять совершенно маленькую девочку, которая поет под фонограмму и назвать ее звездой. А в то время звездой надо было стать, много для этого работать, и те, кто вкладывал себя в свою профессию без остатка, и становились самыми настоящими звездами.
В какой момент вы уже сознательно решили заниматься балетом профессионально?
Мне было девять лет, когда отец предложил мне съездить в балетную школу. Мы поехали, поговорили с ее директором Софьей Николаевной Головкиной, которая и сообщила нам о подготовительных курсах. Мне захотелось попробовать. Попробовал и втянулся.
Сегодня очень часто известные родители, давая интервью, говорят, что они никогда бы не хотели, чтобы их дети пошли по их же стопам…
Мои родители были не против, но все понимали, что это очень сложная и специфическая профессия. Да и от родителей здесь уже мало что зависело. Кстати, в те времена старались выбирать профессии, в которых родители могли помочь. Но, к сожалению или счастью, мне помощи от родителей ждать не приходилось. То есть, конечно, можно вытолкнуть ребенка в той или иной партии, но если он ее не станцует, то на следующий же день с этой партии его снимут. И это все всегда понимали.
А тень отца вас не преследовала?
Нас сравнивали, конечно. Но родители нас с Илзе так хорошо подготовили, что в итоге на меня это не давило, а придавало еще больше уверенности и добавляло энтузиазма. То есть от осознания того, что я — Лиепа, мой энтузиазм и желание работать только росли! Я понимал, что не могу просто так позаниматься и что-то просто не доделать. Я знал, что Лиепа должен делать все так, чтобы все были уверены, что если у меня что-то и не получается — я сделал и сделаю все для того, чтобы получилось.
Расскажите подробнее о матери и отце.
Отец был фанатом (в хорошем смысле этого слова) своего дела. Он очень часто говорил, а также писал в своих дневниках: «Наверное, меня многие могут упрекнуть в каких-то неправильных поступках в жизни. Но никто и никогда не упрекнет меня в моем отношении к профессии. В своей профессии я всегда все делал по максимуму». И это абсолютная правда — с точки зрения профессионализма второго такого человека тогда найти было трудно, а сегодня — просто невозможно. Практически вся жизнь его была подчинена профессии. Подготовка к спектаклю была похожа на подготовку к олимпийским играм, когда у тебя есть только один шанс — сможешь ли ты прожить еще четыре года в спорте и доказать, что ты чемпион… Именно так готовился и каждый его спектакль.
Наверное, это уникальное поколение артистов — Даль, Высоцкий, Быков, Леонов, Миронов, которые работали на разрыв аорты… Как-то я был на спектакле Андрея Миронова в Театре сатиры и увидел, что человек этот не просто играет, а живет! Я увидел его глаза и понял: случись что — он же и умрет на сцене. Было такое ощущение, что он играет в последний раз. Сейчас очень трудно встретить такое. И когда актер сегодня выходит на сцену, то чаще всего он обычно либо обманывает зрителей, либо себя тем, что он хороший артист… А тогда люди жили своей профессией. Наверное, именно поэтому все они так рано ушли из жизни. Сгорели. Такое отношение к любимому делу сформировало меня и мою сестру — мы видели эту фантастическую отдачу и работоспособность.
Отец был спортсменом — в юности занимался плаванием. Именно эта спортивная закалка потом перешла и в балет. То, что он творил на сцене, до сих пор никто не может повторить. В «Спартаке» роль Красса ни один человек даже близко не станцевал так, как отец. А ведь прошло уже более пятидесяти лет, уже и техника ушла вперед, и люди прыгают выше, да и вертятся дольше. Но создать такой образ не может никто.
А в чем секрет?
Сейчас я вспомнил случай, когда он приехал в Лондон, где о нем написали несколько статей, одна из которых называлась «Лоуренс Оливье в балете» (Лоуренс Оливье — величайший английский драматический актер и режиссер), а вторую, после «Ромео и Джульетты», — «Его мозг танцует, а тело думает!». Это и есть настоящий балет!
Действительно, когда ты выходишь на сцену, происходит переворот, и мозг начинает танцевать, а тело — думать и, таким образом, выражать твои мысли. Но сегодня мало к кому можно применить этот эпитет. Я думаю, что это своего рода актерская органика, которую я видел и в кино, и в театре. Таким был Евгений Леонов, который мог играть любую роль. Или Георгий Бурков… Я всегда поражался тому, что он мог играть и следователя, и пьянчужку — и все это выглядело органично.
Также я всегда восторгался Олегом Борисовым. Он мог сыграть абсолютно любого персонажа — артиста балета, химика. Или же взять Евгения Евстигнеева, который сыграл человека, который всю жизнь занимался степом. Сам он степом не увлекался, но глядя на его игру, веришь в обратное.
А как Марис Лиепа работал над ролью?
Например, работая над ролью Красса в «Спартаке», нужно было и какое-то визуальное сходство. Учитывая то, что он был спортсменом — у него была очень красивая фигура, развитая мускулатура. Также очень большое значение отец придавал и гриму для максимального соответствия образу, поэтому он всегда гримировался сам. Он изучал портреты римских императоров, патрициев. Потом он специально выбирал один из образов, который потом и воплощал на сцене.
Также он был очень образованным человеком, много времени уделял изучению истории и меня приучил к этому. Например, когда я взялся за роль князя Курбского в балете «Иван Грозный», то для того, чтобы постичь образ, у нас в то время можно было лишь посмотреть фильм Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный», в котором роль Курбского в исполнении Незванного была не особо яркой, отец посоветовал найти мне переписку Курбского с Грозным. Я так и сделал. Она была на старославянском. Позже я нашел вариант на русском языке и перечитал его. Из этой переписки я узнал о трагедии одного из лучших представителей России того времени, который был вынужден бежать в Литву, так как не мог находиться рядом с такой мощной личностью, как Иван Грозный. Но он не просто бежал, а писал оттуда Грозному письма с просьбой понять, почему он убежал и что его не устраивало в сложившейся политической системе.
Это все я изучал, а знания использовал в работе над ролью.
Вы привели пример такой интеллектуальной подготовки. Но есть еще хореография…
Согласен. Думаю, что балет «Спартак» и роль Красса в нем создавались именно для моего отца. В первых постановках, которые были еще до Григоровича, отец уже танцевал Спартака. И на самом деле он был выписан на роль Спартака, поскольку в предыдущих постановках роль Красса была более статуарной — его носили на носилках, он был крупный, актерский образ был более насыщенным, но без танцев. А так как отец был очень мощным человеком, то Григорович начал ставить на него такие же роли. И был Спартак, и был Красс. Причем танцовщик Владимир Васильев, сыгравший Спартака, спустя время говорил, что когда он увидел, как Марис танцует Красса (во время генеральной репетиции у Володи что-то случилось с ногой и он не танцевал, а наблюдал), ему пришлось перестроить свою роль для того, чтобы та гармонировала с ролью отцовской.
Время на семью у Мариса Лиепы оставалось?
Конечно, нам очень не хватало общения с отцом, но его было достаточно, чтобы мы с сестрой выросли нормальными детьми — яблоко от яблони ведь недалеко падает. В моей жизни было много искушений, и мы были привилегированной семьей — отец часто выезжал за границу и были какие-то вещи, которые мы могли себе позволить… Но отец никогда нас не поучал по поводу того, чего делать нельзя. Он всегда был для нас примером.
То есть указаний не было?
Человек может дать указания насчет того, что нельзя курить, а сам в итоге пойдет на лестничную площадку и будет курить… Или, например, перед спектаклем нельзя ходить на дискотеку…
Перед спектаклем необходимо обязательно отдыхать. Отец всегда говорил, что перед спектаклем твое состояние должно быть, как пружина, которую надо так сжать, чтобы она разжалась и выстрелила только на спектакле.
Мы жили среди таких примеров, понимаете? Они всегда были перед глазами. У нас дома был очень красивый бар в виде тележки, на которой всегда стоял алкоголь. Никто и никогда не говорил, что пить нельзя, но именно своим примером показывали, что это есть в доме и от нас никто это не прятал, но мы понимали, что этим увлекаться не нужно.
Я часто говорю маме: «Мама, какая ты счастливая! У тебя же такие дети!» Мы всегда берем ее с собой в Париж, она всегда присутствует на наших спектаклях, видит, как танцует Илзе, моя сестра, как я выхожу перед спектаклем и говорю с публикой, как все после спектакля приходят и благодарят. И я очень рад, что мама всегда рядом. Отец видел несколько моих успешных спектаклей и всегда очень точно и профессионально поздравлял. И мне кажется, что он был даже удивлен тому, что это получилось. Он просто не верил в то, что мы можем так же, как он, серьезно относиться к профессии. Но на генетическом уровне он нам передал, что удовольствие нужно получать от самой работы, а не от цветов и аплодисментов после нее.
Цветы и аплодисменты — это данность какой-то внешней стороны, а любить нужно именно внутреннюю сторону, любить, когда ты два месяца один сидишь в зале, самостоятельно репетируя один на один с зеркалом, и получаешь от этого удовольствие, заставляешь себя ходить на эти репетиции вместо того, чтобы поехать с молодежью поплавать летом в тот же Серебряный Бор.
С вашим отцом, наверное, было сложно…
Сложно. Есть выражение, которое я довольно часто повторяю: «А кто обещал, что будет легко?» Но мама все эти сложности выдержала достойно, была достойной женой и очень достойной матерью.
Скажите, а какие традиции были в вашей семье?
Нашей семейной традицией до сих пор остается необычная встреча Нового года. 31 декабря отец уходил на концерт, а мы готовились к встрече этого праздника. Елка и свечи были обязательными. Все было очень красиво. И примерно в девять вечера раздавался стук в дверь. Мы, тогда еще маленькие, подбегали и открывали ее. Так к нам приходил Дед Мороз! Представьте — отец уходил в Большой театр, делал соответствующий грим, клеил нос, бороду, надевал шапку, костюм Деда Мороза и красивые сапоги, приходил домой и играл роль Деда Мороза. И это было каждый год, пока мне не исполнилось семь лет. Подарки он дарил всегда при свечах, поэтому узнать его было невозможно. Мы же перед ним выступали, показывали подготовленные заранее номера. А потом, когда приходил уже сам отец, мы говорили: «Папа! Ты опять все пропустил!»
А когда мне было семь лет, Дед Мороз подарил мне фонарик. Причем такие фонарики в то время были редкостью — без батареи, и его можно было воткнуть в розетку и заряжать. И я его быстренько зарядил и посветил ему в лицо. И в тот же момент увидел, что нос-то приклеен!
Я, как партизан, ждал следующего Нового года, и как-то в сердцах сказал, что когда придет Дед Мороз, то я его разоблачу и попробую оторвать ему бороду. И родители, узнав об этом, решили, чтобы уже совсем не проколоться, попросить побыть Дедом Морозом нашего соседа снизу, народного артиста РСФСР Юрия Леонидова, который тогда работал во МХАТе. И на Новый год Дедом Морозом был уже он. И когда он пришел к нам, то первым делом сразу же попросил у хозяйки шампанского, и когда его пил, то у него отклеился ус. Так для нас с Илзе закончилась сказка.
Теперь мы сами устраиваем Новый год и обязательно встречаем его в Москве, в Гостином дворе и в Центральном манеже делаем новогоднюю сказку для наших друзей и жителей Москвы. А потом я обязательно делаю сказку и для других детей. Я уже шесть лет готовлю новогоднее шоу и с огромной радостью наблюдаю, что к нам приходят тысячи москвичей, гостей и получают удовольствие от детского шоу.
Вернусь к Марису Лиепе. Ваш отец критиковал коллег?
К сожалению, да, он высказывался, и не только дома. Он это делал и на партийных собраниях, и на художественных советах. И именно поэтому нажил очень много врагов, так как не умел лукавить и говорить неправду.
То есть, если это было плохо, то он так и говорил?
Да. Его профессионализм позволял ему это делать, но в советские времена, если кто помнит, такая принципиальность и честность в основном популяризировались только в фильмах, а в жизни тебя по голове потом твоей же правдой и били.
А мама не говорила ему, что, дескать, где-то надо быть дипломатичнее?
Говорила, в свое время и папе, а потом и мне говорила: «Папе было трудно в Большом театре, а тебе еще труднее будет!»
В прессе много пишут о непростых отношениях вашего отца с художественным руководителем Большого театра Юрием Григоровичем…
В самом начале это был очень серьезный, творческий альянс. Были созданы несколько замечательных спектаклей, а потом… Понимаете, театр — это такая сложная субстанция, когда сначала кто-то что-то сказал, потом кто-то это донес, неправильно истолковав. Вероятно, здесь все было именно на уровне этих слухов, поскольку по-настоящему понять, что произошло в этих отношениях, я не могу до сих пор. Но отец тогда очень сильно переживал по этому поводу. И тогда у него начался творческий коллапс, когда начали выпускать спектакли, в которых он уже не участвовал — его просто не приглашали в постановки.
А что он дома говорил по этому поводу? Ведь в первую очередь это всегда обсуждается с близкими людьми…
Это были какие-то театральные интриги, которые очень сложно и не совсем достойно обсуждать, а особенно дома. Когда я пришел в Большой театр, то все уже были в курсе того, что отношения моего отца и Григоровича были испорчены. И зная, что я являюсь сыном Мариса Лиепы, мне всячески препятствовали в моем творческом развитии. Но Григоровичу надо отдать должное, поскольку он был очень искренним в своей работе. И я понял, что его сложные отношения с моим отцом не перешли на отношения со мной. Через несколько лет работы в театре я начал получать уже свои партии. А будучи в поездке, мы как-то разговаривали с Юрием Николаевичем приватно, и он с восхищением говорил об отце как о творческой личности. Да, личные отношения у них испортились совсем, но его отношение к отцу, его оценка как актера и танцовщика была очень высокой.
А почему же тогда Лиепе не давали ролей?
Скажу банально — се ля ви. Я так понимаю, что там были люди, которым очень не нравилось, что у отца были такие хорошие отношения с Юрием Николаевичем. В театре достаточно пары слов, чтобы испортить артисту буквально все, а Григорович был достаточно жестким человеком. И вполне вероятно, что ему было донесено что-то по поводу высказываний отца в адрес той или иной постановки Григоровича…
То есть то, что о Большом театре писали в своих мемуарах и Вишневская, и Плисецкая, которые описывали эту самую закулисную жизнь… Все это правда?
Да! Это такой огромный каток, который закатывает человека вне зависимости от его персоналити. Майя Михайловна получила в свое время сполна от Большого театра, и даже — просто от функционеров, которые там даже не являлись творческими людьми.
Не обидно вам было за отца?
Я родился в театральной семье, и поэтому я прекрасно понимал, что все это — звенья одной цепи. Единственное, что я понял, так это то, что с каждым человеком в этом театре я должен выстраивать свои собственные отношения. И так и получилось, с Божьей помощью, Григорович начал меня ценить. И не за то, что я сын Мариса Лиепы, а за то, что я хороший работник, и для его спектаклей было выгодно, чтобы я принимал в них участие. То же самое было и у Барышникова, и у Нуриева… Каждый из них принимал меня не как сына Мариса Лиепы, а как творческую единицу, которая приходила и делала то, что было нужно театру.
В одном из интервью известная балерина Екатерина Максимова сказала: «У Мариса выросли двое талантливых детей, и когда они пришли в театр, то ему намекнули на то, что если он хочет, чтобы у них состоялась карьера, ему самому придется уйти. И он ушел».
Это касалось не меня, а Илзе. Я к тому времени уже получил золотую медаль на международном конкурсе и задавить меня было практически невозможно. С Илзе было сложнее, потому что сначала ее перевели в миманс, где она работала. И уже только после того, когда отцу действительно сказали, что если он уйдет, то его дочь переведут в основную труппу балета, ему пришлось уйти. Так что такая история имела место.
Как это переживалось в семье?
Интриги и проблемы в театре существуют с момента создания самого театра. И поэтому я никогда не питал никаких иллюзий по этому поводу. И когда я прихожу в Большой театр оперы и балета Республики Беларусь, то понимаю, что там такая же ситуация, которая будет всегда и в любом театре. Те же проблемы, что и везде, проблемы, которые надо решать. Так же, как я решал и проблемы у Бежара, в Гранд-Опера и в Мариинке… Всегда были, есть и будут люди, которые завидуют и не хотят, чтобы ты танцевал, либо танцевал меньше и хуже.
Вы уехали в США в 1988 году. Вам стало творчески тесно в Большом театре?
Да. У меня в свое время была очень интересная ситуация, когда я поговорил с Михаилом Лавровским, и он сказал мне: «Удивительная вещь! Заканчиваешь танцевать, тебе уже сорок с чем-то лет и ты понимаешь, что ты не попробовал ничего другого… Вот ты танцевал только в спектаклях Григоровича, а мог бы танцевать у Бежара, МакМиллана, Баланчина…»
Эта фраза, просто брошенная в процессе разговора в гримерке, очень сильно во мне засела. Тогда мне было 26 лет, и я понял, что если я не сделаю этого сейчас, то после тридцати уехать куда-то будет уже невозможно.
Есть период, когда человек уже состоялся как артист. А потом наступает момент, когда ты просто начинаешь закисать в этой ситуации и просто продолжаешь работать в том же режиме, как и раньше. Я понял, что если я там посижу еще два-три года, мне будет уже очень трудно уехать, поскольку придется дорабатывать свой ресурс в Большом театре. Поэтому я решил, что я готов к эксперименту и к каким-то сложностям и трудностям, которые бы меня еще больше закалили.
А как вы это объяснили тогда в театре?
Я вообще не объяснял. Я уехал на гастроли в Канаду, а из Канады — в Америку. Там я женился, после чего сообщил, что останусь в Американском балетном театре. Тогда как раз было начало перестройки, когда Горбачев начал возвращать обратно, в Советский Союз, тех, кто уехал за границу. Мне дали официальное разрешение на работу в этом театре, которым руководил Михаил Барышников. То есть я первый, кто получил возможность вернуться обратно. Я мог уехать в Америку и остаться там. И я был первым, кто приехал обратно, а вернувшись, получил возможность и разрешение уехать снова.
Людмила Гурченко, рассуждая как-то о вашем отце, написала: «Я очень часто думала о нем и о возрастном барьере танцовщика. Ах, какая же у них короткая жизнь на сцене! Как же интересно общаться с художником и слушать его в 45, а не в 25! Но в 25 он взлетает, а в 45 — сцена уже улетает у него из-под ног. Вот парадокс жизни и профессии». С какими еще парадоксами в балете вам пришлось столкнуться?
Парадокс, наверное, в том, что природа создала нас совершенно по другому подобию. То есть сначала мы двигаемся в одном положении, потом приходит какой-то человек и говорит, что так двигаться некрасиво, и начинает учить двигаться по-другому. И мы все играем в эту историю. Приходим в театр и говорим «Как красиво!», когда видим, как женщина стоит на пуантах — хотя природой это не заложено. То или иное па считается в балете эстетически правильным… Но никто в природе не писал никаких законов о том, что это правильно. А критик пишет: «…Выступавшая балерина не знает, как правильно поднимать ногу в позе арабеск». Именно в этом и есть весь парадокс, что все мы ходим по-другому, а в театре смотрим на людей, делающих вещи, которые не свойственны вообще ни одному живому организму!
Возможно, своего рода парадокс есть и в цирке, когда артисты прыгают там, как обезьяны. Но то, что делает балерина и как она это делает — наверное, не делает никто на земле и во всей вселенной! Вот ей надо встать на пуанты и сделать 32 фуэте! Этого не делает ни одно живое существо, а она встает и делает. Зачем? Причем люди, которые сидят в зале, еще и аплодируют. Считается, что если это сделано здорово, с блеском — то это потрясающе, и ей дарят цветы и говорят о том, как она прекрасно сделала эти 32 фуэте.
Да и вообще, само искусство парадоксально! Но наше — особенно, потому что когда мы смотрим драматический спектакль, то мы хотя бы что-то слышим о жизни. А здесь о ней рассказывают какими-то не жизненными подачами. То есть человек становится в такую позу, которой в обычных условиях нет ни у кого… Все смотрят, как выполняются все эти па…
То есть это своего рода эстетическое объяснение жизни на сцене…
Да.
А что пришло в театр после распада Советского Союза? Что изменилось?
Например, сейчас у меня есть проект, который называется частной антрепризой и который в свое время мог делать только Дягилев. Причем он боролся за это еще с Императорским государственным театром, поскольку тогда все также было очень сложным. Ему приходилось брать артистов из Мариинского театра, приглашать в свою частную антрепризу. Чиновники были этим очень недовольны, мол, как это так, а кто такой этот Дягилев, который взял наших самых лучших артистов и увез в Париж.
Теперь это стало возможным. Например, Ксения Барановская принимает нас в Беларуси, а мы выезжаем сюда из России. Ни министр культуры России, ни министр культуры Беларуси не принимают в этом непосредственного участия. Мы их приглашаем, конечно. Но это не было так, чтобы два президента подписали какую-то бумагу, потом спустили ее министрам культуры, а те направили эту бумагу в театры и так далее… Теперь это стало уже возможным.
А что стало возможным непосредственно в самом творчестве?
После распада Советского Союза стало возможным говорить о том, что Дягилев был совершенно фантастической творческой единицей в истории русской культуры. До распада он был невозвращенцем, который сделал плохо, оставив за границей вместе с собой еще и часть великих артистов. И если сейчас мы им восхищаемся, то в советское время мы просто не имели права восхищаться им, хотя прекрасно понимали, что его вклад в копилку популяризации русского балета за рубежом оценить было просто невозможно. Но говорить об этом мы не могли.
Про срок годности в балете… Приходит опыт — уходит прыжок. Это правда?
Да.
Как вы пережили это?
Я-то пережил нормально, потому что многое успел попробовать. Меня довольно часто спрашивают, не жалею ли я, что рано ушел из балета. Мама также очень переживает по этому поводу. Но я хочу сказать следующее: как приятно слышать «как жалко, что вы больше не танцуете!» вместо «слушай, а он все еще выходит на сцену… Он же еле ноги волочит! А какой он был хороший в свои 29!»
А как можно понять, что пора уйти?
Я считаю, что Господь меня как-то увел от того, чтобы я не перетанцевал, ведь это своего рода болезнь…
То есть ваш прыжок еще не ушел?
Я получил травму, и с этого момента я начал бояться выходить на сцену — что тоже есть своего рода фактор. Я видел, как Роналдо после нескольких травм с опаской бегал по полю. И когда к нему подбегал другой футболист, то он от него почти шарахался, потому что любой удар по ноге мог спровоцировать еще одну операцию и как результат — восстановление в течение полутора лет…
Когда у меня появилась боязнь сцены, я протанцевал еще лет семь, но я уже боялся делать те прыжки и те движения, которые нужно было делать. А не делать их было тоже нельзя. Поэтому с того момента я начал готовить себе своего рода отступление с моего первоначального творческого пути. Но я рад, потому что мне еще оставалось десять лет для перехода в другую ипостась. И сейчас вы разговариваете со мной не как с артистом балета, а как с режиссером, продюсером, творческим человеком, которому вполне по плечу будет еще лет до 70 ставить спектакли. Здесь можно говорить уже совершенно о другой ступени развития того же балета. Если раньше, танцуя, я отвечал только за себя, то теперь я отвечаю за тех 85 человек, которые еще не раз приедут в Минск и станцуют на сцене вашего Большого театра.
Наше время, к сожалению, подходит к концу… Скажите, так как же постичь этот замечательный вид искусства — балет?
Надо чаще ходить на балет, сравнивать, не бояться непонимания, потому что балет надо очень хорошо знать. Нельзя, придя один раз на спектакль, сказать, что вы знаете и понимаете балет. Думаю, что так же и в любой другой профессии — чем больше ты смотришь, тем больше понимаешь. И если ты видел «Жизель» с Ульяной Лопаткиной, то ты захочешь посмотреть «Жизель» с Дианой Вишневой. И тогда почувствуешь разницу, оценишь их обеих по достоинству и уже не сможешь оставаться равнодушным к историям из жизни… без слов.
Алексей Вайткун